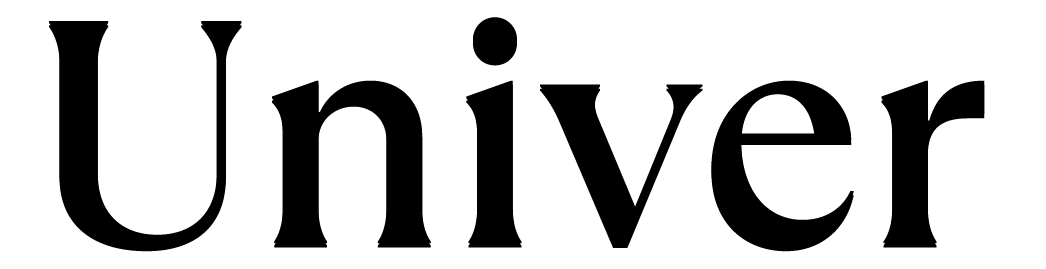В начале было Слово
(Ин 1:1)
…И трудно быть,
Тем более, — не Бог…
(Из студенческой песенки)
Книга 1
- Общага
Играли в «Героев» в четыреста одиннадцатой. Жизнь студента в общаге известна. Пили по-обыкновенному, то есть очень много. Четыреста одиннадцатая считалась чем-то вроде клуба. Реальных её жильцов никто не знал. «Герои» же в цифровую эпоху заменяли карты, шахматы и прочие благородные развлечения предыдущих поколений. Комп был разобран: широкие шлейфы лентами свисали с этажерок пыльных плат, вентилятор, заботливо почищенный и аккуратно прикрученный на место, уютно гудел, — охлаждал. Допотопный монитор на столе расположился неуклюже, как кот на унитазе. Стол был загроможден стаканами и ежами переполненных пепельниц: курили.
— Гончаров! — требовательно произнесла Машка, глядя поверх очков, — Ты ходить собираешься? — С сигареткой в мундштуке она напоминала поэтессу серебряного века, у которой только что вышел первый сборник «Брызги Сатурна».
Ну, я, собственно, и пошел. Филологини любили обращаться ко мне по фамилии, имея в виду тождество с полузабытым писателем. Повинуясь щелчку мыши, мои легионы скелетов, которых я любовно выращивал с начала партии, ринулись в решающую битву с улучшенными лесными эльфами Пахома. Историк Димка Пахомов как-то древесно крякнул, словно толкиеновский оживший вяз, и принялся выстраивать оборону, расставляя имевшихся в наличии эльфов на шестиугольных клеточках. Интрига заключалась в том, — дойдут или расстреляют? В качестве прикупа у меня имелась пара сотен зомбей, а у Пахома — летучий отряд феечек.
«Шш-нн-и-хх!» — простонала входная дверь по линолеуму — и ввалились Вовик Толстой, по прозвищу Панда, и машкин мужик Андрюха Зыкий, дикий и сияющий, словно рожу блинами вытирал. Андрюха учился где-то у чёрта на рогах, то ли на экономе, то ли вообще на социологии, а Вовик был в моей группе старостой (я как-то сумел отмазаться, а его поймали). То что на весь филфак — всего двое парней: Гончаров и Толстой, — приводило дамско-преподавательский состав в экстаз. Чувствовались в этом перст и юмор Господа Бога. На своего прославленного однофамильца Вовик не походил нисколько. Пандой же он сделался практически официально. Заполняя какую-то ведомость, секретарша Людочка не удержалась:
— Тол-сто-ой… — вывела она каллиграфическим почерком, — Лев?
— Не Лев. — сухо ответил пресыщенный подобными шутками Вовик.
— А кто?! — то ли затупила, то ли решила приколоться Людочка.
— Панда, блядь! — рявкнул НеЛев Толстой.
В деканате вечно толчётся полно народу. Сдержать смех пытались с полсекунды. Затем хрюканье, бульканье и прысканье прорвались и перешли в гомерический хохот. Вытирали слезы, держались за лица и сползали по стенам. Людочка, содрогаясь в спазмах, сжимала под столом коленки, чтоб не случилось непоправимого. Пытаясь отдышаться, переводили взгляд на Вовика, который действительно оказался чрезвычайно похож на панду, — и всё начиналось снова. Из-за двери кабинета декана доносилось сдавленное повизгивание, — ничто человеческое оказалось не чуждо и Ольге Петровне Злыбостиной. Времена стояли либеральные, Вовику даже слово «блядь» простили.
…Андрюха ухватился за Машку, а Вовик принялся извлекать из опухшего своего портфеля дары студенческого бога Дагона, которые, как известно, даются либо тем, кто на догон скидывается, либо тем, кто за догоном бегает. На свет появились: две бутылки ужасающей водки «Хорошая», пара полторашек «Колокольчика» со вкусом добра и зла, ломоть докторской колбасы из мокрых старушек и помятый кирпич хлеба. Все это великолепие накрыл пожёванный листок в пластике, вызывавший больше всего подозрений.
— Распорягу дали на практику. — прокомментировал Вовик. — Пишитесь. Злостьева сказала, чтоб до завтра. — он извлек листок из пластика и придавил бутылкой, как партизан карту военных действий.
— Злобастьева только притворяется Злыдневой, — продолжил я филологическую народную забаву трансформации фамилии декана. Суть игры заключалась в том, чтобы не повторяться. — Огласите весь список, пожалуйста!
— Ну, пара библиотек есть, но это фу… — откликнулся Вовик, — этнографическая, но туда тебя не возьмут, — Лёша-Пидор так и сказал: или он или я…
…С Лёшей-Пидором тогда действительно получилось как-то странно. В прошлом году записывать у деревенских бабушек всем давно известные сказки отправились пара десятков филологических девчонок и я, счастливый до невозможности. Лёша же был аспирант и вроде как за старшего. Выглядел он существом абсолютно безвредным, вроде книжной моли. Я же, напротив, чтобы компенсировать несколько сомнительный статус юноши-филолога, вёл спортивно-пацанский образ жизни. А именно: носил олимпийку с полосками, стригся почти наголо и дружил со всеми благородными донами, которых только можно было отыскать в окрестных спортшколах. Кулаки мои были вечно сбиты, на физиономии то и дело обновлялись следы боевой славы. «Чем чаще ломают нос, тем он становится красивее», — любил повторять я, хотя мой собственный ломан не был ни разу, а только отрихтован. Я был самым брутальным филологом после Хэмингуэя и самым интеллигентным гопником после Джека Лондона. Для Лёши я олицетворял все ночные кошмары и обиды детства, для меня же Лёша в принципе не существовал как сколько-нибудь значимый фактор реальности. Ни малейшего конфликта между нами не было и быть не могло.
В первый же вечер, когда цветистый наш отряд расположился в пустовавшей летом сельской школе, я, бросив приличия ради свой рюкзак в предназначенной нам с Лешей «мужской» комнате, отправился к свой Наташке, с которой мы уютнейшим образом расположились в одном из пустовавших классов. Мне и в голову не приходило спросить Лёшу. И Лёша благоразумно молчал в тряпочку. Более того, готовя с девчонками очередную пьянку, я из самых лучших побуждений предложил: «А давайте Лёшу-Пидора позовём, пусть хоть водки нормально выпьет». Имея в виду странное невнимание Леши к прекрасному полу в столь располагающих условиях. И Лёша, кстати, пил с большим аппетитом.
По возвращении же выяснилось, что коварный интеллигент молчал вовсе не из мужской солидарности, а единственно из чувства самосохранения. И про «пидора» ему, скорее всего, девчонки наябедничали. Так что всё это время он, как пишут в протоколах, он испытывал невыносимые моральные страдания. Не думаю, чтобы Лёша специально стучал или писал докладную. Просто подобные истории мигом разносятся и начинают жить собственной жизнью. Я то и дело узнавал самые душераздирающие подробности о том, как прессовал несчастного аспиранта. Обычно это был вольный пересказ моих же пацанских историй под стакан, только с Лёшей в роли терпилы. Андрюха Зыкий аж целые пантомимы в лицах разыгрывал. Подобная репутация мне льстила, однако нюхать библиотечную пыль целый месяц из-за поклепа Лёши-Пидора не хотелось.
… — Есть вот какой-то Институт практической археософии, что бы это ни значило, — продолжал Вовик, — только это где-то в жопе мира, Кыштып какой-то, и туда — на всё лето.
— Ну запиши пока. Завтра зайду к Зло…баный фонарь! — Пахому выпала удача и его эльфы одним выстрелом снесли добрую треть моих скелетов. Исход битвы сделался неочевиден. Андрюха между тем разлил водку, а Машка напластала, как могла, колбасу.
— Ну, за победу! — обрадовался Пахом.
— Нэ кажи гоп… — я выдохнул, выпил и запил «Колокольчиком». Во рту как будто произошла авария на химическом производстве. Закусил колбасой, как мокрой картонкой. Долго нюхал рукав. — Ух, бля… отвратно…
— Зато литр. — заметил Вовик, моргая от выпитого.
Машка проглотила водку и не поморщилась.
Андрюха схитрил: хлебнул «Колокольчика», потом водки, потом опять «Колокольчика».
— Организм подмены не замечает, — пояснил он.
Зыкий, не страдавший «героиновой зависимостью» (играя в «Героев» сутки напролет, многие, натурально, игнорировали экзамены и, конечно, вылетали), притащил кассету Шуры Каретного. Знал, что филологи любят такие штучки. Мы откопали перевязанный изолентой мафон и слушали шепеляво-матерщинную трактовку «Гамлета»: «И ведь главное, сука, он всё отрицал. Ему говорят: Гамлет, типа того!.. А он: Пошли все на хуй! Полное отрицание, понимаешь ты, кореш ты мой драгоценный?! Это уже даже получается отрицание отрицания, совсем они уже там ёбнулись в этой своей Дании…»
— Самое смешное, он совершенно прав, — заметил я, — В монологе «Быть или не быть», по сути, «быть» — отсутствует. Это выбор, как в «Белом солнце пустыни» — ты как, сразу желаешь сдохнуть или сначала помучиться?
— Желательно, конечно, помучиться, — подхватил Пахом, и впрямь чем-то смахивавший на товарища Сухова.
— Вот именно, — продолжал я, — Что ни выбирай — результат один: «Истлевшим Цезарем от стужи заделывают дом снаружи» и «Какие сны в том смертном сне приснятся». Одно другого не исключает, что характерно. Выбор без выбора, везде «не быть». Не быть — это отрицание бытия. А все его дёрганья — не столько интеллигентские сомнения, как у Смоктуновского, сколько как раз попытка отрицать отрицание…
— То есть, Шекспир был первым экзистенциалистом? — усмехнулся Вовик Толстой.
— Это Гамлет был первым экзистенциалистом. — серьезно ответил я. — Отношения Шекспира к своему герою мы не знаем.
— А я слышал, Шекспира вообще не было и всё написал Фрэнсис Бэкон и его братва, — Андрюха Зыкий, призывно наклонил бутылку в том смысле, что хорош умничать, давайте выпьем.
— Гончаров, ты слишком умный, — выпустила струйку дыма Машка.
— Все так говорят. Помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа…
Мы выпили. Водка стала доходить, мир сделался теплее и мягче, как будто сырые дрова искрили-дымили — и наконец занялись спокойным пламенем.
— Не нравится? А ты ещё выпей, — прокомментировал общие ощущения Вовик Толстой цитатой из Жванецкого.
Настал мой ход — катапульта пробила брешь в стене и уцелевшие скелеты ринулись в прорыв…
Рекомендуемые

Читатель интересуется: Здравствуйте, Автор. С энергией которую мы набираем от Бога понятно в плане экологичности и применяемости, со свампиренной вы тоже нам объяснили, а вот что с той которая идет к нам из-за вызванного чем-либо к нам внимания со стороны других людей?.. Как она усваивается и усваивается ли экологично? Как этим пользоваться с пользой и экологичностью для себя?

Ребята, давайте откровенно: деньги — это единственное, к чему люди еще относятся серьезно. Как сказано в известном фильме: «Здесь вообще все просто так, кроме денег»....

Жила-была Хорошая Девочка Маша. И была у нее полная Гармония со Вселенной в инстаграме (она каждый день рилсы снимала). Ну и естественно, от Вселенной дано...

Дядечка физруком работал. «Физрук» и «алкаш» — это почти синонимы, просто пишется по-разному, чтоб для трудовой книжки. Школа и так-то не курорт, а физруку вообще...

Когда он ударил по груше, груша умерла: подпрыгнула, согнулась почти пополам (кажется, я физически услышал стон) и повисла безжизненно. Боксерчики в зале уважительно притихли, даже...